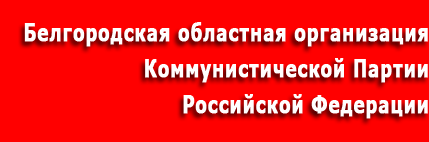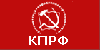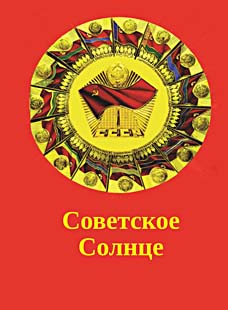Виктор ВАСИЛЕНКО
МУТАНТЫ
Виктор ВАСИЛЕНКО
Продолжаем знакомить вас с размышлениями аналитика Виктора Василенко о том, почему в конце 80-х значительная часть советской интеллигенции поддержала контрреволюцию.
В советском социалистическом обществе было много сделано для приближения к подлинному равенству людей – равенству возможностей раскрытия своего духовного потенциала. Вот, что рассказывал народный артист СССР Борис Андреев: «Я работал на саратовском заводе комбайнов. Мне тогда было лет четырнадцать. Начал заниматься в нашем клубе художественной самодеятельностью. И народный артист Слонов, который курировал клуб, посоветовал заводской общественности, чтобы меня направили в театральное училище. Мне помогли устроить жизнь так, чтобы я мог продолжать работать на заводе и одновременно учиться. На четвёртый год обучения меня открепили от завода и дали заводскую стипендию».
И такой путь был отнюдь не исключением. Выдающийся скульптор Михаил Аникушин родился в рабочей семье, где было пятеро детей. Подростком начал заниматься в студии, потом поступил в институт Репина. Андрей Тарковский говорил о материальных условиях, в которых рос: «Бедность – это не то слово, нищета!». Но при этом будущий кинорежиссёр имел возможность закончить музыкальную школу и школу живописи и ваяния.
Академик В.П. Мишин рос в крестьянской семье, потом поступил в фабзавуч, работал слесарем на заводе опытных конструкций ЦАГИ; работая, учился на курсах подготовки в институт, закончил МАИ, стал ведущим специалистом в области ракетостроения, ближайшим помощником, а потом и преемником С.П. Королёва. Мальчик из бедной семьи в 13 лет потерявший зрение Лев Понтрягин стал математиком с мировым именем. Беспризорник Леонид Пантелеев – известным писателем, чернорабочий Михаил Шолохов – Нобелевским лауреатом.
И уж просто неисчислимы те ребята из бедных семей или вообще оставшиеся без семьи, которые стали не выдающимися людьми, а просто хорошими инженерами, учителями, врачами и т.п.
Кстати, знаменитый диссидент-антикоммунист Владимир Максимов рассказывал в 90-е годы, что его отец погиб на войне, он сам в детстве «мотался по детприёмникам и колониям», - но стал писателем именно в Советском Союзе. Другой известный диссидент Александр Зиновьев рос в Чухломе, в многодетной семье, - но стал в Советском Союзе доктором философии. Впрочем, Александр Александрович сам отдавал должное советскому социальному устройству. Уже живя в эмиграции, он говорил: «Жить по формуле “быть” – это высшее качество жизни… И для моего поколения действительно была открыта неповторимая возможность “быть”».
В такой духовной атмосфере советского общества, несмотря на все недостатки и ошибки при его строительстве, действительно формировался «Человек очеловеченный» - т.е. ориентирующийся на духовные ценности существования. Социолог Питирим Сорокин, русский американец, видел в Советской стране «пример жизнеспособности, творчества и изобретательности русского и других народов и их готовности пожертвовать своей жизнью, состоянием, материальными благами…ради своей свободы, достоинства и других национальных ценностей». Швейцарский литератор Фридрих Дюрренматт, неодобрительно относившийся к советской политической системе, тем не менее, признавал, что «духовность – сильнейшее оружие России».
Писатель Виктор Некрасов, пожив несколько лет в эмиграции в Париже, говорил, что здесь литература никому не нужна, здесь у всех свои заботы – вот бензин, например, дорожает… Литература создаётся там, за «железным занавесом».
Стремление большевиков к созданию великой страны, в которой жизнь будет основываться на принципах подлинно человеческого бытия, к духовному возвышению людей и общества, находило отклик даже у тех людей, которые негативно относились к сложившейся в стране системе власти. Патриарх Тихон, бывший противник большевиков, накануне кончины призвал «всех возлюбленных чад богохранимой Церкви Российской» к тому, чтобы «слиться с нами в горячей молитве Всевышнему о ниспослании помощи рабоче-крестьянской власти в её трудах для общенародного блага». А Вернадский – уже после репрессий 30-х годов – писал в своём дневнике: «Принципы большевизма здоровые; трутни и полиция – язвы, которые вызывают гниение, но здоровые основы, мне кажется, преобладают».
Уже в 20-е годы начала формироваться советская интеллигенция. Она отличалась от старой не ценностной ориентирами (в основном, они совпадали), не социальным происхождением (наряду с выходцами из рабоче-крестьянской среды в ней в те времена было немало представителей привилегированных сословий царской России – таких, как сын полковника и княгини К. Симонов, уже упоминавшийся потомок дворянского рода академик А. Александров, сын богатого рижского архитектора С. Эйзенштейн…). Главным её отличием было то, что, как писал Александр Штейн, это были люди, «которые не верят ни в бога, ни в чёрта – только в революцию». Причём, их вера не была слепым поклонением неким культовым установкам; это была та вера по принципу бытия, которую американский философ Эрих Фромм охарактеризовал как «внутреннюю ориентацию, установку человека».
Эти люди не в лозунгах, а в действительности стремились служить своим делом обществу и народу. Для них работа была не средством приобретения матблаг – смыслом существования. Александр Зиновьев, уже в посткоммунистическое время, вспоминал, что для него и многих представителей его поколения принцип, сформулированный Маяковским, «И кроме свежевымытой сорочки, скажу по совести, мне ничего не надо» был формулой жизни. О том же, говорил и народный артист СССР Евгений Самойлов: «Мы были романтиками. Мы воспринимали жизнь добрыми чувствами, возвышенными, и задачу свою видели в том, чтобы эти добрые чувства передавать людям. А о деньгах особенно не думали – работали во имя более высокого».
Президент Академии наук СССР А. Несмеянов обратился в Политбюро с письмом, в котором говорил, что с его зарплатой сложилось ненормальное положение: занимая несколько должностей, он на каждой получает зарплату, и суммарный доход намного превышает потребности. Академик просил оставить ему зарплату только по основной работе, а остальные деньги направлять на счёт детского дома. Автор романа «Кавалер Золотой Звезды» С. Бабаевский присуждённую ему Сталинскую премию полностью отдал на ремонт разрушенного войной Дома пионеров. Профессор И. Куколевский свою Сталинскую премию перевёл госпиталю в институте Склифосовского. Писатель В. Корнилов Государственную премию РСФСР за романы «Семигорье» и «Годины» отдал на расширение сельской библиотеки в один из колхозов Костромской области…
Достаточно немалому числу советских интеллигентов того поколения довелось испытать на себе ошибки и перегибы власти. Тем не менее, и среди них многие сохранили свою веру в идеалы Революции. Так, белгородец Евгений Свиридов, побывавший при Сталине в лагерях, в разгар антикоммунистической истерии конца 80-х – начала 90-х годов не раз выступал в защиту советского прошлого, коммунизма. В частности, он написал в молодёжной газете: «Остаться коммунистом, если тебя исключили из партии, арестовали и посадили в лагерь, кое-кто из не переживших такого считает невозможным. И всё же, коммунист всегда остаётся коммунистом».
Один из примеров, подтверждающих справедливость этих слов – писатель Всеволод Кочетов. В годы правления Сталина ему довелось пережить немало. Скажем, редактор «Ленинградской правды», где Кочетов в начале войны работал военкором, из-за личной неприязни уволил писателя и через горком добился, чтобы его не принимали ни в какое другое издание. В условиях блокады это было едва ли не смертным приговором: человек, не имеющий работы, не получал продуктовых карточек. Но Всеволод Анисимович не озлобился. Он ясно понимал, что частная несправедливость, допущенная по отношению к нему, никоим образом не ставит под сомнение общую правильность сталинского проекта строительства социалистического общества. И позже, в годы «борьбы с культом личности», Кочетов, не боясь навлечь на себя неприятности, упорно боролся против пересмотра сталинских принципов развития общества, поскольку был убеждён, что это неизбежно приведёт к разрушению достигнутого, к «слякотным дням жизни без идей», в которых заржавеет и прервётся цепь преемственности между поколениями.
В конце 80-х – начале 90-х годов сложилось странное положение. Люди, которые либо организовывали травлю диссидентов, либо участвовали в ней, вдруг стали нападать на коммунизм с таким бешенством, которого, пожалуй, и у Геббельса не было. А люди с лагерным стажем – такие, как философ Пётр Абовин-Егидес, литератор Константин Ковалёв, учёный и писатель Михаил Антонов – оказались среди активных защитников коммунизма. Да и тот же Корнилов, который, по словам Владимира Максимова, в прежние времена не побоялся – в отличие от записных «демократов» 90-х годов типа Окуджавы – испортить свой имидж в глазах партийных чиновников публикацией в «Континенте», говорит о советском периоде: «В советскую эпоху была заложена молодая цивилизация, в которой человечество ближе всего подошло к воплощению идей справедливости».
Советская интеллигенция 20-50-х годов чувствовала неразрывную связь с народом. Александр Фадеев в заметках к плану романа «Чёрная металлургия» писал о «преимуществе (для писателей – В.В.) езды в вагоне третьего класса перед спальным». Понятно, что он имел в виду знакомство с реальной жизнью людей. И в те времена было нормой, что писатели, прежде чем создавать произведения, сами не то, что знакомились с жизнью будущих героев, а испытывали её на себе в полной мере.
Автор романа «Танкер “Дербент”» Юрий Крымов сам ходил на танкере «Профинтерн». Галина Николаева, задумав «Жатву», пустилась в долгое путешествие по сёлам Кубани. Работала с колхозниками, вместе с ними переживала их трудности, радовалась первым ощутимым сдвигам к лучшему (дело было вскоре после войны, когда жизнь в сёлах, по которым прошлась война, была очень трудной). Вера Панова, начиная работу над «Спутниками» два месяца ездила на фронт и с фронта в санитарном поезде. Константин Симонов «с лейкой и блокнотом, а то и с пулемётом» прошёл со своими армейскими героями весь их путь от 39-го года до 45-го…
С особой силой чувство сопричастности советской интеллигенции к судьбе страны и народа проявилось в годы Великой Отечественной войны. Тысячи интеллигентов добровольцами уходили на фронт. Штейн с полным основанием пишет, что «ленинградская интеллигенция отдаёт фронту своих лучших людей». Пытались добиться призыва в армию многие выдающиеся мастера – такие, как Шостакович, Шварц, - им отказывали. Шварц, человек немолодой и не очень здоровый, категорически отказался эвакуироваться из Ленинграда и вместе с женой дежурил в ПВО.
Более 250-и кинооператоров – в том числе такие известные, как Кармен, Макасеев, Слуцкий, Учитель – работали во фронтовой кинохронике. Примерно каждый восьмой из них погиб, выполняя задание.
Лучшие писатели стали в годы войны фронтовыми журналистами. Многим из них не раз приходилось менять перо на «штык». Скажем, Александр Зонин прибыл на фронт без воинского звания (он не был членом партии и потому автоматически получить комиссарские звёздочки не мог). А случилось так, что в подразделении, куда он был командирован собирать материал, погибли все офицеры – и штатский писатель принял командование на себя. Иоганн Зальцер вместе с командой линкора «Марат» участвовал в отражении атаки сорока немецких бомбардировщиков и погиб на зенитном мостике.
Начальник Главного политуправления ВМФ Рогов дал по своей команде указание: «Писателей береги. На фронты и в действующие флоты, конечно, посылай, но строжайше накажи, чтобы не лезли в драку. Этим народом надо по-хозяйски распоряжаться». Тем не менее, многие писатели считали для себя вопросом чести «лезть в драку». Тот же Зонин, несмотря на категорический запрет, сумел-таки «устроиться» в экипаж подлодки Л-3, отправляющейся в «поход смерти».
Около сорока писателей работали в блокадном Ленинграде. До прорыва блокады дожила примерно половина из них. Но никого в городе насильно не удерживали – пример Л. Соболева доказывает это. Редакция «Правды» как-то предложила Всеволоду Вишневскому вызвать его для отдыха. Писатель ответил: «Какая-либо поездка для отдыха и т. п. только сбила бы ритм работы. Здесь воздух пропитан борьбой, Балтикой, здесь всё питает новую работу. Затем есть внутр. закон: держаться до конца».
Долю советских интеллигентов тех лет не назовёшь лёгкой. Но, вспоминая то время, писатель Виктор Розов назвал его «счастливым» для него. А Штейн, путешествуя как-то в компании австралийских туристов, размышлял: «Прикидываю: а как бы Лавренёвы и Вишневские, Зонины и Бурианы, живые и погибшие, ошибавшиеся и побеждавшие; все, кому на роду было написано жить и действовать в мятежные, неспокойные, несчастные и счастливые годы, когда жило и действовало наше поколение, сменяли бы свои годы жизни на годы жизни вот этих туристов? И сотой доли не вынес каждый из них, того, что пало на плечи тех… Нет, говорю с нерушимой уверенностью».
Разумеется, и в том поколении интеллигентов были люди, которые принципиально иначе относились к строительству в нашей стране нового общества. Как говорил уже в 90-е годы академик А.Д. Александров, не у каждого на вершине захватывает дух от восторга, некоторые испытывают лишь тошноту». Горький высказал примерно ту же мысль много резче: «Рождённый ползать летать не может». Но тогда лицо советской интеллигенции определяли «рождённые летать».
(окончание следует)