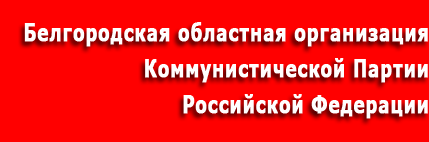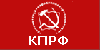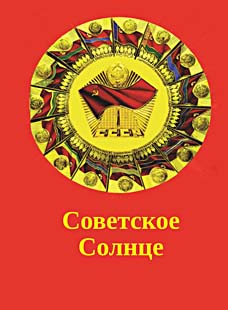Антисталинская кампания как пролог распада СССР
А. ЯКУБОВ,
г. Белгород.
Я родился в русской семье в многонациональном Тбилиси в 1941 году. Провёл там детство, юность и только в связи с проклятой перестройкой, затеянной Иудой Меченым, и последовавшим вслед за ней развалом СССР был вынужден покинуть родной город и перебраться на Белгородчину.
ОДНО из самых сильных впечатлений того времени – трагедия, разыгравшаяся в марте 1956 года в столице Грузии.
Грубые нападки на Иосифа Виссарионовича Сталина со стороны Н.С. Хрущёва, сделанные им на XX съезде КПСС, стали катализатором народного недовольства. 5 марта 1956 года, в третью годовщину смерти Сталина, и менее чем через месяц после XX съезда, люди вышли на улицы Тбилиси. Хорошо помню колонну студентов с красным знаменем, с портретами Ленина и Сталина. Она медленно двигалась по улице Челюскинцев. Встречный транспорт остановился, ребята требовали, чтобы все включили сигналы. Мой отец вышел из своего трофейного «Опеля», снял шапку, хотя валил мокрый снег, и поклонился портрету Сталина. «Спасибо, отец!» – сказал ему парень из колонны.
Два дня подряд огромные толпы приходили к зданиям ЦК Компартии Грузинской ССР и Совмина и требовали, чтобы к ним вышли руководители республики. На третий день к народу вышел первый секретарь ЦК КП Грузии В.П. Мжаванадзе, закончивший войну в звании генераллейтенанта. Из толпы вышли трое фронтовиков со звёздами Героев Советского Союза: командир отряда из прославленного партизанского соединения Ковпака Давид Ильич Бакрадзе, русский танкист с обожжённым лицом и гордость всех курдов Тбилиси – шейхснайпер (фамилии, к сожалению, не помню).
Давид Ильич снял войлочную шапочку и сказал: «Мы пришли к тебе, уважаемый Василий, не только как к руководителю нашей республики, но и как фронтовики к фронтовику». «Мудрость народов гласит: об усопших говорят либо хорошо, либо ничего», – добавил шейх. «Народ хочет знать, почему достойный презрения Никита очернил светлую память нашего отца, с чьим именем мы шли на смерть, защищая Родину».
Люди их поддержали: «Правильно, отвечайте!» «Тише, тише», – замахал рукой Василий Павлович. «А вы нас не пугайте, – ответил танкист, – я пять раз в танке горел, меня трудно напугать. Вы лучше скажите, почему враги наши радуются?» Товарищ Мжаванадзе попросил всех разойтись, пообещав разобраться. Но народ продолжал волноваться.
Я с одноклассниками каждый день приходил к памятнику И.В. Сталину на набережной Куры, где круглосуточно кипел митинг. Весь высокий постамент памятника был завален венками из свежих цветов и букетами, а люди несли и несли. С кузова полуторки (импровизированной трибуны) люди говорили и кричали о своей обиде за вождя. Народные сказители и певцыашуги – грузины, армяне, курды, азербайджанцы – в своих стихах и песнях прославляли отца всех наших народов. Фронтовики делились воспоминаниями, где и когда они видели И.В.Сталина на фронте.
Один азербайджанец рассказывал, как в декабре 1941го под Москвой И.В. Сталин ходил по окопам переднего края и лично ему пожал руку. Видели вождя на фронте и мой дядя, полковниктанкист Л.П. Иванов, и тесть, П.Т. Высоцкий, прошедший войну в 9й Гвардейской Кубанской пластунской казачьей дивизии. Зато сегодня разномастные «демократы» утверждают обратное, будто И.В. Сталин в годы Великой Отечественной никогда не бывал на фронте.
Запомнился слепой фронтовикгрузин с тремя орденами Славы на выгоревшей гимнастёрке. Он исполнил любимую народную песню Вождя «Взлети, чёрная ласточка», по смыслу похожую на русскую песню «Ворон чёрный». Пел так, что в толпе плакали даже русские женщины, не понимавшие слов песни. Пожилая грузинка рассказывала всем, что до войны этот фронтовик учился в консерватории и был очень талантлив.
Вечером 9 марта народ узнал, что в Тбилиси гостит прославленный полководец Народноосвободительной армии Китая, маршал Чжу Дэ. За ним отправили выборных стариков. Вскоре подъехал ЗИС110, из кабины которого вышел китайский офицер, хорошо говоривший порусски. Он представился порученцем маршала, извинился, что маршал не смог приехать сам по причине нездоровья. На вопрос, как относится к Сталину товарищ Мао ЦзэДун, он ответил, что вождь китайского народа считает себя верным и преданным учеником великого И.В. Сталина. Он попытался убедить людей разойтись, уверяя, что всё выяснится и поклёпы, возведённые на вождя, будут сняты. Но народ оставался непреклонен...
Через некоторое время на набережной появились бэтээры с солдатами. Тогда люди стали гнать детей домой. Нас с другом буквально за шиворот вытащил из толпы лётчик ГВФ и приказал идти домой. А ночью началась стрельба. Говорили, что было очень много убитых…
На второй день я вышел купить хлеба. На улице было полно военных и милиции. Люди были растеряны и подавлены. Сидевшие на бэтээрах солдаты старались не смотреть им в глаза. К бэтээрам подходили фронтовики и выражали своё возмущение: «За что стреляли в народ?», «С именем Сталина бросались под танки!», «Мы верили ему, как родному отцу», «Он привёл нас к Победе!»
Вскоре подошёл курд Озо, потерявший ногу в битве под Прохоровкой. Ковыляя на костыле, он направился к военным, рядом шёл старший его сынишка с портретом И.В. Сталина, украшенным сплетёнными яркими шерстяными нитками, которыми курдские женщины украшают портреты самых дорогих усопших.
Озо стал стыдить солдат и офицеров, те угрюмо отмалчивались. На тротуаре стояли несколько райкомовских работников. Один из них указал молодому милиционеругрузину на Озо. Милиционер нехотя подошёл и протянул руку к портрету Сталина. Тут закричали все люди, и даже солдаты начали свистеть. Милиционер бросил фуражку наземь, стал её топтать и истерически кричать: «Оставьте калеку в покое! Мой отец погиб за Родину, за Сталина! Пусть Никита задохнётся первым материнским молоком! (Это страшное проклятие на Кавказе. – Прим. авт.)». А Озо, орудуя костылём, обратил в бегство «руководящих товарищей».
Единство советских народов, единство партии и народа – это была та скрепа, которая делала нашу державу нерушимой. И не надо «демократам» сегодня уверять нас, будто братство народов в ту пору – это всего лишь «сталинский миф».
Я знаю правду не по газетным статьям, а по жизни. Люди принимали эвакуированных из Ленинграда детей: в нашем доме их жило немало, и мы делились с ними нашей скудной едой, относились к ним побратски. Почти все мужчины из нашего многонационального двора были на фронте. Женщинами верховодила бывшая грузинская княгиня Анна Ивановна, старший сын которой погиб под Сталинградом. Она подбадривала слабых, смотрела за детьми, когда их матери были на работе; под её руководством женщины шили солдатские шинели. Анна Ивановна организовала сбор тёплых вещей для Красной Армии, когда с просьбой об этом обратились представитель Сталинского райисполкома и стариксвященник...
Грузины и представители других народов, живших в Грузии, были патриотично настроены во время войны и делали всё для приближения Великой Победы. Из маленькой Грузии на фронтах Великой Отечественной воевало более 700 тысяч человек, половина из них не вернулась домой. Женщины поголовно ходили в чёрном, почти в каждом доме с балконов свисали куски чёрной материи, на которых погрузински и порусски значилось, кто из семьи погиб на войне…
Впоследствии все плохо продуманные и необоснованные действия Н. С. Хрущёва советские историки назовут волюнтаризмом. И волюнтаризм будут трактовать как стремление реализовать желаемые цели без учёта объективных обстоятельств и возможных последствий.
Одним таким непродуманным действием Н. С. Хрущёва явилась его кампания по развенчанию высокого авторитета И. В. Сталина, названная борьбой с культом личности и реализованная им на XX съезде партии. Вероятно, при подготовке кампании Н. С. Хрущев исходил из благих побуждений, желая оздоровить, демократизировать обстановку в партии. Но на деле всё обернулось иначе. Оздоровления партии не получилось, зато получилось отчуждение народа от партии. Тот факт, что антисталинскую кампанию организовал первый секретарь ЦК партии, а другие партийные руководители в центре и на местах, за редким исключением, хоть и нехотя, но поддержали её, стало первым шагом к отчуждению народа от партии. Большинству советских людей того времени претила позиция партийного и советского руководства, возглавляемого Н. С. Хрущёвым, по десталинизации страны. У людей появились сомнения в верности выбранного партией курса, неверие в возможность построения социально справедливого общества.
Но страшнее всего выглядел урон, нанесённый Н. С. Хрущёвым по сплочённости и единству советских народов. Кровавый разгон демонстрации в Тбилиси, устроенный Н. С. Хрущёвым, способствовал переносу личной обиды каждого грузина с первого секретаря ЦК партии на всех русских людей. В народном единстве советской державы появилась брешь. И ею впоследствии воспользовались наши враги.
На примере мартовских событий 1956 года в Тбилиси мы увидели, как Н. С. Хрущёв высек искру в межнациональных отношениях, которая впоследствии разгорелась в политический пожар, в котором погиб СССР.