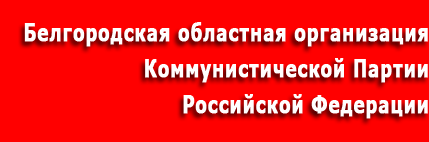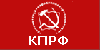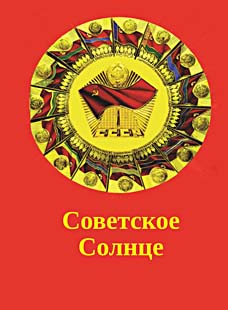КУДА БЫЛ ВЫСТЛАН ПУТЬ ДЕКЛАРАЦИЯМИ О БЛАГИХ НАМЕРЕНИЯХ 2
Виктор Василенко
«Чёрная волна» полностью захлестнула и молодёжную тему. В самом начале «перестройки» эстонские кинематографисты создали фильм «Игры для детей школьного возраста»(режиссёр Л. Лайус), который, по идее, должен был задать тон новому звучанию молодёжной темы. В этой картине, рассказывающей о жизни детского дома, напрочь отсутствует умилительность, свойственная подобным картинам прежних лет. Юной героине фильма приходится трудно. Порой настолько трудно, что она даже попыталась покончить с собой. Но при всём том произведение не оставляет «чёрного» впечатления. Потому что для авторов главное, образно говоря, не копание в «навозной куче», а поиск жемчужного зерна. Основная тема картины – обретение девушкой духовных устоев, которые помогают ей не просто выстоять, но и обрести смысл бытия.
К сожалению, такой подход оказался для советских фильмов второй половины 80-х годов не правилом, а исключением. В подавляющем большинстве картин молодёжной тематики изображение тягот и невзгод жизни юных героев оказывалось самоцелью. Во многих лентах(например, «Соблазн», «Бич Божий», «Трагедия в стиле «рок», «Меня зовут Арлекино) доброе начало отсутствует напрочь. В некоторых других – таких, как «Абориген», «СЭР» - нам показывали персонажей, которые имели в себе нравственный потенциал, но общий тон произведений был беспросветно мрачный.
Я вовсе не считаю, что необходимо благополучное разрешение всех конфликтов произведения, но и трагическая развязка может не оставлять ощущения беспросветности – вспомним, хотя бы, «Иваново детство». И, подозреваю, дело не столько в бесталанности некоторых режиссёров, а, главным образом, в том, что создать беспросветно мрачное ощущение советской действительности – это и была их задача.
Молодёжные фильмы «чёрной волны», помимо всего, были нацелены на то, чтобы вызвать у молодых зрителей неприятие старшего поколения, если не ненависть к нему. Возьмём, к примеру, произведший большой шум публицистический фильм «Легко ли быть молодым?»(режиссёр Ю. Подниекс). Все показанные в нём нравственные и социальные коллизии трактуются авторами исключительно с позиции их юных персонажей. Рассказывая историю разгрома электрички ошалевшими от рок-концерта молодыми людьми, авторы фильма вместо размышлений о духовной сущности музыки, которая вызывает в слушателях подобные эмоции, делают упор на другом: громили электричку полтораста человек, а ответственность свалили – взрослые, это всячески подчёркивается в фильме – только на семерых; от взрослых не дождешься справедливости.
В другом эпизоде речь идёт о девушке, которая «позаимствовала»(именно так это трактуется в фильме) в театре красивое платье. И снова внимание зрителей направляют не на то, что в 16 лет пора бы понимать, что брать чужое без спроса нельзя, а на бессердечии взрослых, кои не проявили душевной чуткости к юной воровке…
Естественно, что у очень многих молодых людей – знаю об этом наверняка, поскольку присутствовал при обсуждении картины «Легко ли быть молодым?» в студенческой аудитории – фильм вызвал не стремление задуматься об истинных и ложных ценностях существования, а только озлобление к «миру взрослых».
Аналогичный подход к теме «отцов и детей» присущ фильмам «Курьер», «Пощёчина, которой не было», «Асса», «Маленькая Вера», «Меня зовут Арлекино» и многим другим – вплоть до телесказки «Не покидай!». Чтобы лучше понять причины возникновения такой тенденции, надо вспомнить, что в 80-е годы именно старшее поколение – вернее, часть него, оставалась главным носителем гуманистической идеологии, на уничтожение которой по сути дела были нацелены фильмы «чёрной волны».
Искусство должно поселять в человеке надежду и веру, - был убеждён Андрей Тарковский, - чем мрачнее мир, который возникает на экране, тем яснее должен ощущаться заложенный в основу творческой концепции художника идеал, тем отчётливей должна раскрываться перед зрителями возможность выхода на новую духовную высоту». В фильмах же «чёрной волны» - как совсем примитивных, так и сделанных на довольно высоком профессиональном(не могу сказать: художественном) уровне вроде «Астенического синдрома» Муратовой или «Замри, умри, воскресении» Каневского – такой идеал не ощущался совершенно и уж тем паче перед зрителями не открывалась возможность выхода на новую духовную высоту. Разумеется, подобные фильмы никак не могли возвышать человека, обогащать его духовно.
Показательно, что как раз в это время – в 1989 году – организаторы Московского международного кинофестиваля сняли его традиционный девиз «За гуманизм киноискусства, за мир и дружбу между народами». Ещё одна характерная деталь этого кинофестиваля: в действовавшем в рамках МКФ-89 Профессиональном клубе кинематографистов даже вечер классической музыки был организован демонстративно потребительски.
Процитирую вполне «демократический» по политической ориентации фестивальный бюллетень для журналистов «Калейдоскоп»: «Когда вошёл, сразу услышал музыку Пуччини и неплохой голос. Поднимаюсь в зал: народ(под этим словом автор понимает «бомонд» московского мира культуры) шляется между столиками, пьёт, говорит о чём угодно, а на сцене бедная певица поёт арию мадам Баттерфляй».
Как тут не вспомнить предупреждение Тарковского о смертельной опасности реализации тех устремлений, которые сформировались в сознании интеллигенции, изуродованном потребительством. По своей духовной сути «перестройка» - и в целом, и порождённая ею «черная волна» в кино, в частности, – была не всплеском возмущения против искажений гуманистической идеологии, возникавших в советском обществе, а яростной атакой оголтелых потребителей против самой гуманистической системы ценностей.

дата: 11.04.2009 Верхний уровень