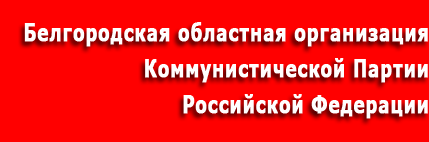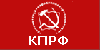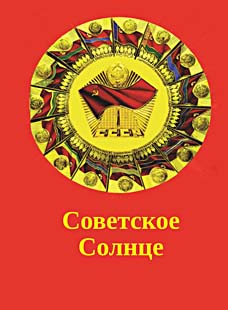КУДА БЫЛ ВЫСТЛАН ПУТЬ ДЕКЛАРАЦИЯМИ О БЛАГИХ НАМЕРЕНИЯХ 3
В. Василенко
Итак, на том пути, по которому пошла перестройка советского кино, оно быстро теряло свой художественный уровень, нравственные ориентиры, гуманистический потенциал. Тем не менее, руководители Союза кинематографистов СССР не чувствовали себя виноватыми. В 1990 году, незадолго до VI съезда СК СССР, секретарь СК режиссёр Андрей Смирнов заявил: «Мы уходим с гордо поднятой головой».
Что же вселяло в них гордость? Судя по выступлениям на съезде, «обретение свободы» и переход к рыночным отношениям. Однако уже накопившийся опыт однозначно убеждал, что свобода и рынок несовместимы. На место идеологической цензуры пришла куда более безжалостная цензура коммерческая.
«Кто погибнет на рынке, - туда ему и дорога!», - оптимистично утверждал в конце 80-х тот же Смирнов. Неужто он и впрямь не понимал, что в рыночных условиях обречённым на гибель окажется именно подлинное искусство?
В начале 80-х Хуциев из-за разногласий с чиновниками не мог поставить фильм о Пушкие, Швейцер – о Маяковском. Теперь чиновники мало что решали, но эти произведения так и не были созданы. Драматург и сценарист А. Александров в статье в «Советской культуре» поведал, что, принимая к работе его сценарий, руководитель творческого объединения «Слово» В. Черных поставил категорическое условие: добавить в картину такие сцены, чтобы на неё нельзя было пускать детей до 16-и лет. Вряд ли он при этом не понимал, что прокатные возможности будущего фильма подобное добавление, вероятно, и повысит, но как художественное произведение фильм с искусственно привнесёнными «аттракционами» такого рода состояться в принципе не может…
Рынок ставил препятствия не только на пути создания подлинно художественных фильмов – он сплошь и рядом затруднял выход на экраны уже созданных или приобретённых за рубежом настоящих произведений киноискусства.
Если прежде прокатчики могли из финансовых соображений отложить «на полку» фильмы с невысоким коммерческим потенциалом, но всё же область такие картины получала и, как правило, находились энтузиасты, которые организовывали их показ по клубной системе, по театральному принципу или как-то ещё. Теперь же областные конторы кинопроката должны были ПОКУПАТЬ фильмы, и это кардинально меняло положение.
Казалось, совсем недавно «перестройщики» рьяно упрекали чиновников Госкино за то, что «Зеркалу» Тарковского в своё время фактически был закрыт путь к массовому зрителю, поскольку фильм тиражировали лишь 17-ью копиями. Но в новых условиях, именуемых «свободой», никому и в голову не пришло отпечатать дополнительный тираж этой картины. Кто бы из областных контор проката, вынужденных в рыночных условиях вести борьбу за выживание, «Зеркало» купил? Не прошли «коммерческой цензуры» и не дошли до широкого круга зрителей выдающиеся произведения отечественного кино того времени «Армавир» Абдрашитова и «Бесконечность» Хуциева. В большинство областей не попали и куда более простые по языку, но значительные по содержанию фильмы, предлагаемые в то время на кинорынке
– «Ханусен» Сабо, «Герой года» Фалька, «Похитители мыла» Никетти, «Копытом туда, копытом сюда» Хитиловой…
Правда, в одном и впрямь у кинематографистов появилась поистине безграничная свобода – свобода спекуляции на насилии и эротике. Созданная конфликтная комиссия бдительно следила, чтобы она ни в коем случае не нарушалась. К примеру, именно конфликтная комиссия открыла путь на экраны без дообработок фильму «Меня зовут Арлекино», в котором демонстрация насилия явно переходила границы его смакования. Она же помогла сохранить в фильме В. Пичула «Маленькая Вера» предельно натуралистичный постельный эпизод, включение которого в картину было совершенно не мотивировано художественной целесообразностью. Во всяком случае, когда на пресс-конференции челябинский журналист попросил режиссёра объяснить художественный смысл включения этого эпизода в фильм, тот в ответ только презрительно посоветовал обратиться к врачу.
Эротический эпизод в «Маленькой Вере», любование насилием в картине «Меня зовут Арлекино» - это были попытки повысить прокатные возможности серьёзных по сути произведений. Но в то же время на экраны стали беспрепятственно выходить и такие ленты, где зверство и скотство подавалось уже просто как «острое» развлечение. А пропагандистская команда «перестройщиков» стремилась разрушить в сознании людей уже даже не эстетические, а нравственные критерии оценки фильмов.
На одном из советских кинофестивалей(их тогда расплодилось немало) жюри киноклубов определило фильму «Воры в законе», предлагавшему в качестве развлечения смакование невиданного в нашем кино зверства, категорию ККК – конъюнктура, коммерция, кич. И тут же журналист «Советского экрана» объявил: конъюнктура, коммерция, кич – это именно то, чего хочет публика и недемократично ей в этом отказывать. И не отказывали: очень скоро картины «категории ККК» стали основой репертуаров кинотеатров. Помнится, по городам тогда возили программу зарубежных эротических фильмов(среди которых «Эммануэль» была далеко не самой эпатирующей картиной), которая именовалась «Неизвестные шедевры кино» - не больше, не меньше: шедевры. Зато когда в Челябинске попробовали организовать фестиваль фильмов, свободных от насилия и эротики, демпресса тут же усмотрела в этом покушение на свободу.
Находились оптимисты, уверяющие, что заработав на подобном товаре много денег, наши кинематографисты станут на них создавать подлинные шедевры высокого искусства кино. Но это в сортире деньги не пахнут, к культуре это не относится. И свердловские кинематографисты, понимая это, обратились к своим коллегам с открытым письмом, в котором предупреждали: «Не бывает так! К тому времени, когда мы обретём возможность создавать нетленное, некому будет его воспринимать».

дата: 15.04.2009 Верхний уровень