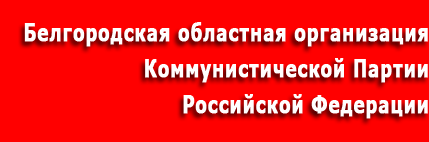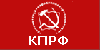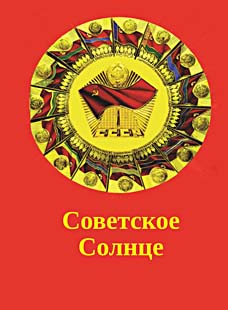Виктор ВАСИЛЕНКО: «КТО ЕСТЬ ЧЕЛОВЕК?»
ВСЯКАЯ ЛИ СВОБОДА – БЛАГО?
Виктор ВАСИЛЕНКО,
Белгород
Свободу часто именуют чуть ли
не главной ценностью человека. При этом нередко трактуют её в очень узком
понимании: как свободу политическую. Скажем, российские реформаторы, взяв такое
понимание за критерий, пытаются доказать, будто они принесли нашему обществу
свободу. Не будем тут рассматривать вопрос, насколько в реальности демократична
власть реформаторов. В данном случае существеннее другое: можно ли говорить о
свободе в обществе, где по меньшей мере половина населения ввергнута в борьбу
за физическое выживание. Шведский политик Улоф Пальме в книге «Шведская модель»
категорически утверждает: «Страх перед будущим, перед насущными экономическими
проблемами превращает свободу в бессмысленную абстракцию».
Да и общество западного типа,
выдаваемое идеологами реформ за идеал, тоже свободно весьма относительно.
Альберт Швейцер, например. Считал, что человек в нём несвободен и патологически
зависим. Американский социолог Льюис Мамфорд писал о том, что западный мир
превращается в «мегамашину» - полностью организованную систему, в которой люди
функционируют подобно частям механизма. Английский историк Арнольд Тойнби
высказался ещё резче: «В западном мире в конце концов последовало появление
тоталитарного типа государства, сочетающего в себе западный гений организации и
механизации с дьявольской способностью порабощать души, которой могут
позавидовать тираны всех времён и народов». А некоторые учёные, характеризуя то
общество, которое его пропагандисты именуют «свободным миром», используют
термин «фашизм» - с добавлением «улыбчивый».
Опять-таки, здесь речь идёт
не о реализации на деле провозглашённых в буржуазных странах Запада
общественно-политических свобод (хотя, отмечу, есть множество широко известных
фактов, дающих основания согласиться с язвительной оценкой Бернарда Шоу:
«Статуя Свободы установлена на том месте, где она похоронена»). С точки зрения
ценностей человеческого существования определяющее значение имеет не столько
провозглашение свободы, сколько то, как
свобода используется. Философ Николай Бердяев утверждал, что «ошибочно
было бы относить целостность и свободу человека к примитивному, натуральному в
то время, когда отнесено это может быть лишь к духу». Очевидно, что когда
свобода способствует духовному развитию человека, она является благом: ведь в
этом случае она содействует «очеловечиванию» людей и тем самым прогрессу
общества в целом. Но вот когда свобода раскрепощает потребительское начало в
человеке…
Ещё апостол Павел
предупреждал: «К свободе призваны вы, братия, только бы свобода (ваша) не была
поводом к угождению плоти» (напомню, что христианские мыслители трактовали
понятие «плотские вожделения» в широком смысле – как вообще материальные). В
противном случае, свобода будет способствовать только распространению, говоря
словами Павла, «дел плоти»: «блуда, нечистоты, ссор, зависти, распрей,
бесчинств и тому подобного». Действительность посткоммунистического времени
убедительно доказывает справедливость предупреждения апостола.
Свобода духа и свобода плоти
– какая из них присуща обществу западного типа? Если учесть, что для него
характерны приоритет материальных ценностей, алчность, жажда обладания
собственностью, то приходим к выводу, что тут свобода ориентирована именно на
«угождение плоти». Причём, такая свобода воистину безгранична. Скажем, в прессе
была информация, что в фешенебельном ресторане Ганновера за приличную сумму
можно было заказать весьма необычное блюдо – не кушанье, а именно блюдо: им
служило возлежащее на столе обнажённое женское тело. Футболист Бэкхем на
организацию своей свадьбы пустил около миллиона фунтов стерлингов. Компания
«Виктори сикрет» предложила приобрести как подарок к Рождеству бюстгальтер
стоимостью в три миллиона долларов; накануне 2000 года эта же компания
предложила аналогичный подарок подороже – за десять миллионов долларов…
А вот свобода духовного
развития личности в «свободном» мире весьма ощутимо ограничена – не какими-то
административными рамками, а прежде всего самим принципами жизни. Ведь уже сама
потребительская ориентация лишает человека духовной свободы, делая его рабом
матблаг. «Люди осознают себя в приобретённых товарах, - писал профессор
Калифорнийского университета Герберт Маркузе, - их душа находится в
автомобилях, стереофонических комбайнах, домах, кухонном оборудовании…
социальный контроль осуществляется с помощью новых потребностей».
Новые потребности
искусственно возбуждаются, в частности, посредством рекламы, на которую в
развитых капиталистических странах тратятся гигантские средства. При этом она
давно превратилась из просто средства ознакомления с предлагаемыми товарами и
услугами в мощнейшее средство идеологического воздействия. Как мы получили
возможность убедиться на собственном опыте, реклама навязывает мысль, что
приобретение – это путь к счастью; то есть, выступает как инструмент
формирования потребительского сознания. А если учесть, что, как подсчитал
американский специалист по рекламе Кале Ласне, каждый американец от момента,
когда начинает осознавать окружающий мир, до окончания школы подвергается в
среднем воздействию 350 тысяч только телевизионных реклам, то это уже даёт
основание говорить о тотальном подавлении личности.
На телевидении западного
образца стало правилом включение рекламы и в подлинно художественные фильмы.
При этом она не только не теряет силы своего влияния на сознание зрителей, но
ещё и крайне затрудняет восприятие духовного содержания произведения.
Периодическое появление на экране неимоверно пошлых вставок не даёт возможности
человеку у телевизора погрузиться в атмосферу фильма, а именно такой глубокий
контакт с произведением в значительной степени обуславливает воздействие
киноискусства на душу зрителя. То есть, тут происходит прямое подавление
потребительским началом духовного. В 80-е годы прошлого столетия режиссёр
Федерико Феллини, не выдержав такого надругательства над своими картинами,
подал в суд на телевидение – и проиграл. Вероятно, суд усмотрел в таком шаге
художника покушение на свободу…
С другой стороны,
капиталистическое общество – даже современное – это общество, основанное на
борьбе за выживание. И проигравшим доводится весьма несладко. Шолом Алейхем
писал: «В Америке железный закон жизни: ежели вам нечего есть, можете умирать».
И хотя с тех пор были предприняты некоторые шаги по социальной защите
«проигравших», нельзя сказать, что ситуация в корне изменилась. В Соединённых
Штатах 90-х годов несколько миллионов человек не имели жилища; по данным
организации «Хлеб для мира» более 13-и миллионов детей в этой сверхбогатой
стране голодали или находились под угрозой голода.
Боязнь оказаться в числе
аутсайдеров (а от этого не застрахованы даже неплохо зарабатывающие люди –
вспомните, к примеру, американскую кинокартину «Забавные приключения Дика и
Джейн») тоже подталкивает к участию в гонке за «угождением плоти».
Разумеется, «Человек
очеловеченный» находит в себе силы противостоять и искушению и страху. Но для
«очеловечивания» людей условия в обществе западного типа крайне
неблагоприятные. Это касается и рыночной системы, которая, как было показано в
предыдущей главе, несовместима с духовной свободой – ведь она, заставляя людей
продавать себя, вынуждает их отказаться от человеческой истинности. Личность,
стремящаяся к духовной свободе, оказывается в ней просто
неконкурентноспособной.
Неслучайно подлинно художественная
западная литература, которую создают люди духовные, по своей сути глубоко
антибуржуазная и антикапиталистическая. Причём, нельзя сказать, что это только
наше представление о ней, сформированное за счёт идеологического отбора
допущенных к читателям произведений. Проживший много лет за рубежом
писатель-антикоммунист Владимир Максимов утверждал, что подобная направленность
характерна для всей западной «великой» литературы.
От поборников западного
образа жизни можно слышать, что характерный для него индивидуализм – это и есть
подлинная свобода; они убеждают нас в «бессмысленности подчинения частного
общему». Но в действительности индивидуализм лишь эрзац свободы.
Как уже отмечалось,
индивидуализм вовсе не свойственен подлинной природе человека. Как общепринятый
модус существования он является порождением капиталистической системы. Фромм
писал о его формировании: «Индивиду угрожают мощные силы, стоящие над личностью
– капитал и рынок. Его отношения с собратьями, в каждом из которых он видит
возможного конкурента, приобрели характер отчуждённости и враждебности; он
свободен – это значит, что он одинок, изолирован, ему угрожают со всех сторон».
Один из видных идеологов
капитализма, доктор философии из США Айн Рэнд утверждала, что «только
эгоистические устремления людей способны привести к полному материальному
успеху». Что ж, укоренение во внутреннем мире человека эгоизма ведёт к
уничтожению чувства ответственности за свои поступки перед людьми (т.е.
совести), а снятие такого морального ограничителя и впрямь повышает шансы в
борьбе за личное материальное преуспевание. И такие люди смогут спокойно
пользоваться своим «завоёванным» благосостоянием, абсолютно не беспокоясь тем,
что их высокий уровень материального потребления оплачивается нищетой и голодом
многих и многих людей. Но ведь это отнюдь не ведёт к духовному возвышению
человека. Напротив, это лишь подтверждает вывод, который сделал Бердяев:
«Эгоцентризм разрушает личность, он есть величайшее препятствие на пути
реализации личности». Философ, ставивший свободу личности превыше всего, был в
то же время убеждён: «не быть поглощённым собой, быть обращённым к «ты» и «мы»
есть основное условие существования личности».
Утверждение в сознании
приоритета личных интересов чревато губительными последствиями не только для
самих индивидов, но и для человечества в целом. Потому что, как отмечал
религиозный философ В.С. Соловьёв, «весь исторический рост человечества состоит
в последовательном ограничении «своего интереса».
Действительно, если бы люди
первобытного мира считали «бессмысленным подчинение частного общему», то
человек бы просто не выжил. Только жертвенности во имя блага всего племени как
норма поведения позволила тогда человечеству не только выжить, но и развиваться.
Готовность
римлян ради общего блага жертвовать своими интересами и самой жизнью вошла на
многие века в пословицу («римлянин душой»). А вот когда при вырождении Рима в
древнее общество потребления это качество у подавляющего большинства граждан
атрофировалось, Рим не выдержал натиска варваров, которые никак не превосходили
его ни в экономической, ни в военной мощи.
Подобных примеров можно
привести немало из самых разных эпох. Все они подтверждают, что путь прогресса
общества, а тем паче человечества, лежит только через служение частного общему.
Французский философ Пьер Тейяр де Шарден, интерполируя эту историческую
тенденцию, сделал вывод: «Двери в будущее откроются лишь перед напором всех
вместе».
Подлинная – духовная –
свобода человека невозможна без свободы его души от власти материальных благ.
Когда Деметрий захватил Мегары, он распорядился узнать, не нанесли ли его воины
убытка Стильпону, а если нанесли – немедленно возместить. Философ ответил, что
убытка он не понёс: знания и разум отнять невозможно, а остальное не имеет
значения». Менедем сказал о Стильпоне: «Это истинно свободный человек».
В этом вопросе с
древнегреческими философами-гуманистами сходятся не только их современные
коллеги, но даже некоторые создатели литературного ширпотреба. Герой
американского писателя-детективиста Росса Макдональда был убеждён: «Деньги и
свобода несовместимы». Разделяла эту точку зрения и Агата Кристи:
«Существование, в котором деньги не играют особой роли, даёт свободу».
Свобода духовного развития
существовала в советском социалистическом обществе. Существовала при всех
имевшихся в нём ограничениях. Не было политической свободы; со второй половины
30-х годов не раз проявлялся идеологический догматизм, который отрицательно
сказывался на свободе творчества как в науке, так и в искусстве. Но при всём
том, большевики стремились сформировать такое общественное сознание, которое
основывалось на приоритете духовных ценностей и приоритете общих интересов, а
потребительское отношение к жизни воспринималось как уродство. И достигли на
этом пути немалого. В статье, опубликованной в 1997 году в журнале «Власть»
эксперт фонда «Общественное мнение» К. Петренко сетует на то, что за годы
Советской власти тщеславие и желание заработать много денег были ликвидированы
в сознании большей части людей, своекорыстие стало неправедным и нелегитимным.
Хотя автор ставит это советскому воспитанию в упрёк, но с гуманистической точки
зрения это высшая оценка идеологической работы большевиков.
При этом с первых лет
Советской власти приобщение самого широкого круга людей к духовным богатством
культуры сделалось государственной политикой. В отчёте о положении в России
1919 года представитель президента США Уильям Буллит писал: «Во всех частях
России открыты тысячи новых школ, и Советская власть, по-видимому, в полтора
года больше сделала для просвещения народа, чем царизм за 50 лет… Что касается
театров, оперы и балета, то их единственное отличие от прежнего заключается в
том, что они находятся по управлением Комиссариата просвещения, который
предпочитает классиков и смотрит за тем, чтобы рабочие имели возможность
посещать представления и чтобы они предварительно знакомились со значением и
красотой произведений… Достижения Комиссариата просвещения, руководимого
Луначарским, очень значительны: все русские классики переизданы в количестве от
трёх до пяти миллионов экземпляров и продаются населению по низким ценам».
Организовывались массовые
концерты. В январе 1918 года газета «Известия» писала об одном из них: «Видели
ль вы остекленевшее море? Слышали ль вы, как перестают дышать восемь тысяч
человек?.. Девушка принесла своё чудесное искусство, его бережно приняли и
теперь благодарили». Это один из типичных концертов того времени. А вот
совершенно необычный пример, который тоже характеризует дух нового общества.
Красноармейцы роты караула Комиссариата иностранных дел, уходя на фронт,
попросили Чичерина на прощанье сыграть им. И загруженный сверх меры неотложными
делами нарком устроил для них импровизированный концерт фортепьянной музыки.
После окончания гражданской
войны работа по культурному развитию народа ещё более активизировалась. Лучшие
театры в лучшем составе дают спектакли по всей стране. Постановки ведущих
коллективов регулярно транслируют по радио на весь Советский Союз. Вообще,
радио со времени своего утверждения как самого широкомасштабного средства
массовой коммуникации было сделано мощным инструментом распространения
художественной культуры. Уже в посткоммунистическое время на «Радио-1»,
вспоминая вещание 30-40-х годов, говорили, что тогда детские радиожурналы
«стремились к эстетическому развитию детей, к воспитанию в них добрых чувств»,
что «предвоенный музыкальный быт был очень богат и по преимуществу благороден».
Образование после, видимо,
неизбежных при революции завихрений и перегибов поднялось на высочайший
уровень; оно действительно открывало людям путь к сокровищам духовной культуры.
Да, конечно, существовал
идеологический отбор «духовной пищи». Но бесспорно и то, что людей приобщали к
творчеству художников вне зависимости от их классового происхождения. Более
того, творчество дворян Чайковского, Мусоргского, Толстого, Тургенева, Репина,
Сурикова было официально провозглашено столбовой дорогой советской культуры.
В советской системе духовного
развития народа можно найти немало недостатков, но нельзя забывать, что это
была первая попытка создания такой системы в государственном масштабе. И
колоссальные достижения в этом направлении были очевидны. Опальная поэтесса
Анна Ахматова, вернувшись после поездки в Оксфорд, поведала: «Знаете, чему они
там из моих рассказов более всего удивлялись? Их удивило, даже потрясло, когда
я рассказала, что за несколько дней до отъезда получила письмо от моряков и
лесорубов. У них никто стихов не читает, кроме очень тонкого слоя
интеллигенции. А тут, вдруг, извольте видеть, моряки и лесорубы!». Уже во
второй половине 80-х годов писатель Алесь Адамович, один из моральных лидеров
«перестройки», признавал: «Несмотря на весь сталинизм, наше поколение было
воспитано на гуманистической русской классике – на «Муму», на Пушкине, на
Толстом, на Чехове. То есть гуманистическое воспитание было очень мощное».
Только, может быть, всё же не «несмотря на весь сталинизм», а благодаря тому
курсу, по которому вёл страну Сталин? Путать ошибки и перегибы при
осуществлении проекта развития страны и его сущность – это непозволительная для
исследователя ошибка.
Забота Советской власти о свободном развитии
личности проявилась и в создании системы, способствующей раскрытию способностей
человека. В обществе было немало сделано для того, чтобы в людях, говоря
словами Сент-Экзюпери, не был «убит Моцарт». Андрей Тарковский говорил о
материальных условиях, в которых он рос: «Бедность – это не то слово, нищета».
Но при этом он имел возможность закончить музыкальную школу и школу живописи и
ваяния. И это отнюдь не исключительный пример. Выдающийся скульптор Михаил
Аникушин родился в рабочей семье, где было пятеро детей. Подростком он начал
заниматься в детской студии, потом поступил в институт Репина. Оставшийся в
раннем возрасте без отца Леонид Коган стал великим скрипачом. Беспризорник
Леонид Пантелеев – известным писателем. Мальчик из бедной семьи, в 13 лет
потерявший зрение Леонид Понтрягин сделался математиком с мировым именем…
А вспомним рабфаки и
сменившие их другие формы подготовки рабочей молодёжи к получению полноценного
высшего образования. Они открыли путь в науку немалому числу именитых в будущем
учёных. Вот, скажем, академик В.П. Мишин: рос в крестьянской семье, потом
поступил в фабзавуч, работал слесарем на заводе опытных конструкций ЦАГИ,
учился на курсах подготовки в институт, закончил МАИ, со временем сделался
одним из ближайших помощников С.П. Королёва.
Даже во времена «застоя»,
когда система духовного развития людей в значительной степени была разъедена
ржавчиной формализма, те, кто стремились к обогащению своего внутреннего мира,
имели самую широкую свободу для этого. Благодаря надежной социальной
защищённости, о которой шла речь выше, почти каждый человек был свободен от
необходимости вести борьбу за выживание и мог при желании
заботиться не столько о том, что есть и что
пить и во что одеться, сколько о своём духовном совершенствовании.
Доводилось слышать о рядовых
инженерах из Запорожья, которые имели привычку регулярно летать в Москву на…
спектакли. Сам не раз ездил из Белгорода в столицу, в
кинотеатр Госфильмофонда. А сколько людей
съезжались в Москву со всей страны в надежде попасть на просмотры Московского
международного кинофестиваля, на нашумевшие выставки… Что же касается
«организованных» экскурсий в культурные центры страны, то стоили они весьма
недорого, а с учётом того, что значительную часть их стоимости обычно оплачивал
профсоюз, были доступны практически всем (мне, например, в годы работы в
технологическом институте предлагали путёвку в Минск с проездом в оба конца и
недельным проживанием за 14 рублей – при моей зарплате, считавшейся очень
маленькой, в 93 рубля).
«Реформаторы» обвиняют своих противников (а
недовольна «реформами» большая часть общества) в «ностальгии по дешёвой
колбасе». Но это ностальгия именно по свободе – по свободе от страха перед
завтрашним днём, вызванного материальными проблемами и социальной
незащищённостью.