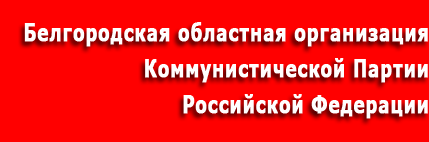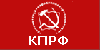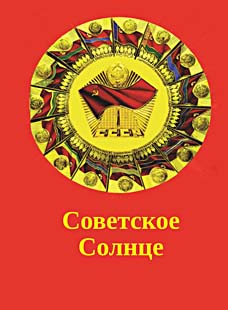СЧАСТЬЕ И ЕГО ЭРЗАЦ
Виктор ВАСИЛЕНКО
Белгород
О счастье мечтают все люди. Однако у разных типов личности разные представления о нём. «Человеку очеловеченному» счастье даёт чувство своей реализации. Гёте так выразил это ощущение:
Я знаю, не дано ничем
мне обладать.
Моя лишь мысль, её не
удержать,
Когда в душе ей
суждено родиться.
И миг счастливый тоже
мой,
Он благосклонною
судьбой
Мне послан, чтоб сполна им насладиться.
Фрейд утверждал, что
реализация в труде своего духовного потенциала, ощущение радости творчества
доступны «лишь немногим людям» - художникам, учёным, поскольку «предполагают
наличие особенных, не так уж часто встречающихся способностей и дарований». В
современном потребительском обществе подобная точка зрения настолько
укоренилась, что даже некоторые учёные, стоящие, в целом, на гуманистической
позиции, разделяют её. К примеру, Дэниэл Белл выделял в этом отношении тех, кто
«посвящает себя храму науки». Да и Джон К. Гэлбрейт говорил о необходимости
создания возможности выбора между работой и досугом, но не о придании работе
духовного наполнения.
Между тем, опыт Советского
Союза убеждает, что не только в теории, но и на деле ощущение реализации своего
духовного потенциала может быть связано не только с интеллектуальной
деятельностью. Илья Эренбург писал, обращаясь к рабочим: «Люди почему-то всегда
думали, что есть труд высокий и труд низкий. Они думали, что вдохновение
способно водить кистью, а не киркой. Пала глухая стена между художником и ткачихой, и в духоте шахт люди
добывают не только тонны угля, но и высочайшее вдохновение мастера… У нас с
вами одни муки, одни радости. Назовём их прямо: это муки и радости творчества».
Движение новаторов, принявшее в 30-е годы чрезвычайно широкий размах,
свидетельствует, что эти слова не лозунг, а констатация факта.
Для значительной части людей
– особенно значительной в 20-50-е годы – был ещё один источник духовного счастья
в труде: осознание того, что этот труд служит развитию и укреплению страны,
росту благосостояния народа. Я вовсе не хочу сказать, что эти люди жили с постоянным чувством счастья
(это вообще свойственно лишь блаженным). Но жизнь их была освещена высокой
целью и полна смысла; труд стал для них духовной потребностью, а не только
средством обеспечения себя матблагами, и потому сам по себе приносил моральное
удовлетворение. Маяковский точно выразил этот чувство: «Радуюсь я – это мой
труд вливается в труд моей республики».
Человеку с такой жизненной
позицией и общие достижения страны приносят счастье. Один из самых ярких
примеров этого – 12 апреля 1961 года. Сразу после сообщения о полёте Гагарина
тысячи и тысячи людей вышли на улицы. Это не было «организованное» шествие –
просто радость оказалась столь огромной, что люди ощущали необходимость
разделить её с другими. Это и было то, что западные философы-гуманисты называют
«счастьем разделённой радости» и относят к «самым глубоким формам человеческого
счастья».
Однако понять таких людей
может лишь тот, в чём внутреннем мире сложился приоритет духовных ценностей, то
есть, «Человек очеловеченный». На Московском международном кинофестивале 1989
года югославский режиссёр Жильник говорил о смысле заложенной в названии его
фильма «Так закалялась сталь» аналогии с романом Николая Островского: «Герой
Островского строил социализм, а Лео, мой герой, носит его на плечах и в
желудке». И по тону режиссёра, и по тону фильма было ясно, что автор полагает:
уровень материальной обеспеченности персонажа явно неудовлетворительный. Однако
Лео обеспечен материальными благами
неизмеримо лучше Корчагина: у него свой дом, машина, он может позволить себе
посвящать вечера попойкам в баре, - тем не менее, Корчагин был бесконечно
счастливее него. Дело в том, что для героя фильма, как и для режиссёра,
значение имеют лишь материальные ценности и соответствующие радости, а потому
они не в состоянии понять счастье Корчагина.
Для «Человека потребляющего»,
основным стимулом которого является погоня за материальными благами, счастьем
будет казаться их приобретение. Показателен американский телесериал «Санта-Барбара»
- фильм, целенаправленно ориентированный на внутренний мир «Человека
потребляющего», поскольку «сверхзадача» сего творения служить обрамлением
рекламы. Трудно вспомнить момент, когда кто-нибудь из персонажей испытывал
творческое счастье созидания. Зато примеров «приобретательского» счастья –
сколько угодно. Жизненные устремления персонажей (хотя, подозреваю, помимо воли
авторов сериала) метко охарактеризовал Круз: «Вор хочет того же, что и мы,
только добивается этого другим способом».
Но, быть может, в этом нет
ничего плохого? Пусть каждый идёт за своим счастьем и стремится к тем радостям,
которые ему по нраву. Однако Альберт Эйнштейн предупреждал, что такая гонка за
матблагами «может привести к удовлетворению желудка, но никак не к удовлетворению
человека как мыслящего и чувствующего существа». А Пётр Леонидович Капица в
докладе, представленном на Эйнштейновский конгресс ЮНЕСКО, развил эту мысль и
показал, что «победителям» в этой гонке «за высокое материальное благосостояние
приходится расплачиваться духовным счастьем».
Потому что приобретательское
счастье – это не счастье, а его потребительский эрзац, пароксизм довольства от
временного насыщения. А настоящее духовное счастье для подобных людей
становится недостижимым.
Вспомним фильм Тарковского
«Сталкер». В некой Зоне есть Комната, чудесным образом исполняющая самое
заветное желание побывавшего в ней человека. Но именно самое заветное – то,
которое владеет его душой. И вот один из героев картины, Писатель, -
интеллигент, разменявший духовные богатства на материальные блага, - дойдя до
порога Комнаты, останавливается. Потому что понимает: потребительство
уничтожило в нём все те стремления, осуществление которых может принести ему
настоящее счастье, а воплощение того, что сейчас владеет его внутренним миром,
счастья отнюдь не даст.
Мысль о том, что в жизни,
ориентированной на потребительские ценности, человек теряет духовное счастье,
звучит во многих фильмах, поставленных в Японии, Италии, Франции, Дании,
Швеции, Испании, Голландии в то время, когда эти страны достигли очень высокого
уровня материального благосостояния. Характерна и реакция на произведения
такого рода тех советских интеллектуалов, которые приняли сугубо
потребительскую по духу идеологию «перестройки». Например, обозреватель «Спутника
кинозрителя» с раздражением пенял авторам французского фильма «Зелёный луч»:
«Ну не надо, хватит про то, как им там плохо и неуютно!».
«Человек потребляющий» редко
осознаёт свою ущербность (осознание её – это уже начало пути к духовному
возрождению). Но он всё равно ощущает дисгармонию бездуховного существования.
Голландский фильм «Задыхаясь» поведал историю женщины из «среднего класса»,
которая вдруг – на первый взгляд, непонятно почему – решила уйти из жизни. Его
режиссёр Мади Сакс на встрече с журналистами рассказала, что идея картины
возникла у неё после того, как её близкая подруга, имевшая, казалось бы, всё:
надёжную материальную обеспеченность, внешне благополучную семью, - попыталась
покончить с собой. И в своём фильме Мади как раз стремилась осмыслить
случившееся. Произведение подводит к однозначному заключению: главной причиной
была страшная духовная пустота жизни женщины. Этот случай вряд ли можно счесть
исключительным. Ведь, как не раз информировала пресса, в мировых «лидерах» по
самоубийствам не только разорённая реформаторами Россия, но и богатейшая
Япония, и материально процветающая Дания.
Думается, именно неосознанное
ощущение такой внутренней дисгармонии в значительной степени порождают тягу
материально благополучных людей к наркотикам, алкоголю; наконец психические
расстройства. А масштабы этих бедствий в ведущих капиталистических странах становятся
угрожающими.
Известный врач Поль Брэгг
писал, что в США только среди учащейся молодёжи полтора десятка миллионов
алкоголиков, что психиатров и психологов не хватает для контроля за
психическими расстройствами. Рейган в бытность президентом США признавал: «Наблюдается
пристрастие к алкоголю и наркотикам, от которого страдают сотни тысяч наших
детей,.. может дойти до того, что наркомания в школах станет нормой». В
середине 90-х годов музыкальный канал «Эм-ти-ви» провёл опрос молодых
европейцев (от 16-и до 24-х лет); выяснилось, что более 60% из них полагают,
что в современном обществе наркотики сделались нормой.
Таким образом, духовная
деградация западного «общества всеобщего благоденствия» грозит перейти –
вернее, уже переходит – в физические вырождение. «Мы находимся в эпицентре
кризиса современного человека, - предупреждал Фромм. – Это угроза не одному
классу или одной нации, а всей жизни».